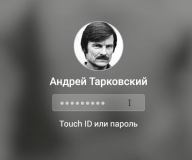Во время просмотра фильма «Теснота» я впервые отчетливо поняла, что из постсоветского состояния нам не выбраться никогда. «Это Нальчик, где я родился и вырос», — говорит молодой режиссер за кадром и почти без усилий декораторов переносит нас в 1998-й год, в гетто, где еврейская семья, окруженная дичающими местными, обращается к общине после похищения одного ребенка, в качестве платы предлагая на заклание второго.
Но это не Нальчик и не девяностые — это Россия завтрашнего дня. Территория, где по мере отказа государства от социальных обязательств пустоту заполняет семья, спасительная и удушающая. Коллективное тело, о котором Мераб Мамардашвили говорил в связи с фильмом Абдрашитова и Миндадзе «Остановился поезд»: «…Существа, которые борьбой за выживание сбиты в коллективный организм, коллективное тело, подобное колонии полипов или кораллов, взаимно паразитирующих. Они все связаны между собой в силу того, что они сбились в это тело в борьбе за выживание, связаны тем, что я назвал бы удавкой человечности». Эту удавку (а еще воткнутый в сердце дротик) можно увидеть на шее женского манекена, в последний момент по наитию шагнувшего в «Тесноту» из фильма Фассбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант»: заправка, еврейская девушка Илана на грани нервного срыва, ее возлюбленный-кабардинец и его товарищи смотрят на маленьком телевизоре чеченские видео с убийствами; кажется, ей все-таки придется вернуться к маме. В фильме не объясняется, но можно понять из контекста: еврейская община слаба — у евреев нет кровной мести — поэтому требовать с нее выкуп безопасно.
Новости с Кавказа завораживают и пугают как прогноз погоды, предвещающий год без лета. Институт семьи, который нам сейчас вместо социальных гарантий подсовывают из всех утюгов — каково это? Смотрите «Тесноту». «…На Кавказе в отдельных регионах «возродилось» женское обрезание, — объясняет на сайте «Горький» социолог Елена Гапова, — Это часть сложного феномена, в рамках которого пересекаются классобразование, национальное и религиозное строительство и усиление патриархата, то есть «мужской власти». Потому что «обрезанная» девушка наверняка будет «чистой», а это важно в процессе установления отношений между семьями и кланами, которые формируются посредством брачных обменов. Там сворачивается модернизационный проект, так как рухнула индустриальная, городская экономика, а когда это происходит, возвращается «моральная экономика деревни». Уходит государство с его социальной защитой, и эту функцию берет на себя расширенная семья. В первую очередь это сказывается на семейной модели: большой семьей проще выжить. В этих обстоятельствах предполагается, что люди «отказываются» от личной идентичности, они становятся частью «рода», расширенной семьи. Этот процесс имеет в основе экономические изменения, но его часто связывают с «культурной отсталостью»».
Государство, исчезнувшая империя в «Тесноте» напоминает о себе одной едва заметной деталью, которую Балагов подсмотрел в любительских видео на YouTube: ворота в доме главной героини Иланы украшают две металлические Спасские башни с олимпийскими кольцами — символ «Олимпиады-80»: больше от империи не осталось ничего. Постимперское состояние будет длиться и длиться. Можно сказать (и говорится): «Хватит кормить Кавказ», а что с ним делать? С полоской земли, в середине XIX века присоединенной порохом и кровью, чтобы империя имела проход к территориям, которые сегодня ей уже не принадлежат? И с людьми на этой полоске. Мастерская Сокурова в Кабардино-Балкарском университете, из которой вышел режиссер «Тесноты» и его товарищи, имена которых, я надеюсь, мы еще услышим, — ответственность и решение одного человека, который может многое, но не все. До поступления в мастерскую Балагов учился на бухгалтера в колледже МВД, сейчас наверняка работал бы клерком в органах. Один пример обнажает картину всеобщего запустения: сколько талантливых художников в огромной России навсегда останутся бухгалтерами, потому что Александр Николаевич Сокуров не может явиться каждому? Его поездка на Кавказ — протест против уродства централизации и диспропорции в распределении ресурсов: тот, кто живет в сложном регионе, обладает опытом и может рассказать нерассказанные истории, но не имеет возможностей. Тот, кто родился в метрополии, имеет возможности, но не имеет, что сказать.

«Теснота» — слишком красноречивый упрек неказистому постсоветскому колониализму: это сильная драма, в которой нерешаемые этические проблемы накладываются на яркий этнический и социальный фон, и она убедительно передана именно языком кино. Возможно, это также следствие ее провинциального происхождения: в метрополии, мне кажется, большинство причастных уже не воспринимает кинематограф как канал для разговора о важном. «Why so serious?», — как бы говорят они, маскируя иронией неспособность к высказыванию или отсутствие содержания. Когда три года назад одновременно появились прорывные фильмы Наталии Мещаниновой, Оксаны Бычковой и Нигины Сайфуллаевой, на безрыбье была провозглашена «новая женская волна», главным маркером которой оказалась именно способность режиссеров к прямому высказыванию, к самообнажению — в противовес тому, что моя коллега Леля Смолина называет мужским «кинематографом сжатой жопы». И тем удивительнее для сидящих в зале на «Кинотавре» авторов, годами маскирующих и не выдающих свое «я», что самым откровенным и открытым из них, начинающим рассказ с самого себя, оказался двадцатипятилетний выходец с «патриархального Кавказа». Человек, земляка которого в «Армавире» Абдрашитова и Миндадзе — фильме, предсказавшем распад и состояние после распада — обитатели метрополии презрительно называют «джигит».
Но, помимо содержательной, Балагов в своем дебюте решает еще и несколько эстетических задач, которые с трудом даются русскому кинематографу «о провинции» или даже «не о провинции»: это всегда или гротеск в деталях и костюмах («Жмурки»), или шелковые простыни Звягинцева, или стилизация в духе сильно пьющего Уэса Андерсона (прошлогодний лауреат «Кинотавра» — «Хороший мальчик»), или просто нечто невнятное; действительность, так и не переведенная на язык кино. В «Тесноте» для бесформенной реальности находится киноязык, отсутствие эстетики превращается в эстетику. Детали не случайны (уже упомянутые манекен и олимпийский логотип), одежда с вещевого рынка, обманчиво равная самой себе — часть сложного цветового рисунка, в котором одну пару героев едва уловимо объединяет общий зеленый, а другую — общий синий — самый теплый цвет, который истончается и тает до единственной полоски на куртке, когда влюбленные расстаются, и молодую девушку, принявшую свою участь, поглощает темнота и теснота породившей ее утробы.